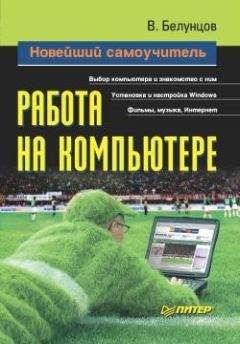Валерий Тарсис - Палата № 7
— Я полагаю, что мы так же преступно относимся к Валентину Алмазову, Голину, Загогулину и многим другим, которые вообще ничем не больны.
Андрей Ефимович был впервые за многие годы потрясен. Ему стало грустно, что не он, а она, которая могла быть его внучкой, выступила так открыто и самоотверженно. Он горько улыбнулся.
— Да… Зоя Алексеевна… мне вспоминаются романы наших классиков. Тогда врачи частенько рекомендовали больным нервным расстройством уезжать за границу, на воды — как тогда выражались. Но ведь у нас такой реальной возможности нет, дорогая Зоя Алексеевна. Даже если я внесу такое предложение, все, и прежде всего ваш почтенный супруг, доктор Бабаджан, поднимут вой и в лучшем случае сочтут это за выходку старого чудака. Вы ведь знаете, что каждая заграничная поездка рассматривается чуть ли не в Совете министров — валюта! А отправить людей, заведомо зная, что они не вернутся, значит дать пищу вражеской пропаганде. Из этого ничего не выйдет.
— Но мы ведь врачи, а не шарлатаны. Мы дискредитируем себя в глазах народа. А тем, что мы держим таких людей в сумасшедших домах, мы даем еще больше пищи вражеской пропаганде.
— Да… — академик теперь обратился ко всем собравшимся. — Вопросы, поднятые Зоей Алексеевной, слишком сложные, чтобы мы их могли немедленно разрешить. Завтра я уезжаю в Америку. А когда вернусь, мы вновь их обсудим и постараемся что-нибудь предпринять.
Все думали, что после такого выступления Зою Алексеевну снимут с поста заместительницы, — да и Кизяк не скрывала, что желает от нее избавиться, но к всеобщему удивлению никаких перемен не произошло.
В два часа дня Андрей Ефимович принимал больных в сороковом женском отделении. Первой привели Наташу Ростову. И снова здесь присутствовала Зоя Алексеевна, хотя она к этому отделению отношения не имела. Она сама об этом попросила Андрея Ефимовича.
Зоя Алексеевна издавна знала профессора музыковедения Аполлона Аполлоновича Ростова, одно время училась у него, — она два года занималась в консерватории, потом по настоянию мужа оставила ее, да и времени не хватало. Однако профессор Ростов не забыл ее и однажды попросил приехать к нему — посмотреть его дочь, которая тогда была ученицей восьмого класса. У Наташи тогда начали проявляться некоторые странности, потом участившиеся, так что врачи стали поговаривать о каком-то неопределенном нервном расстройстве, хотя и никакого диагноза поставить не могли. В конце концов, они прямо признались, что не знают, как ее лечить. Началось с того, что она не могла вставать по утрам. Когда ее будили, она вставала, умывалась, садилась завтракать, потом начинался припадок — рвота, конвульсии, иногда теряла сознание. Но если ее не будили и она спала, сколько хотелось, она чувствовала себя отлично.
Врачи решили, что все это симптомы слишком бурного полового созревания, и со временем все пройдет.
Однако не проходило.
Ей пришлось перейти в вечернюю школу, потом — в музыкальную.
У Наташи Ростовой было недурное контральто и она могла бы стать незаурядной певицей, если бы хоть в какой-нибудь степени обладала трудолюбием, усидчивостью, постоянством. Но ни одного из этих необходимых качеств у нее не было. Все ей быстро приедалось — занятия, люди лакомства. Фраза, которую чаще всего от нее можно было услышать, была: «Мне скучно».
Она была очень темпераментной и увлекающейся. И вот, — сегодня она не может жить без какого-нибудь мальчика, а завтра видеть его не может и клянет себя: как она могла увлечься таким примитивным субъектом? Плачет от досады. Единственное, что она ценила в жизни — это весе-лье, развлечения, особенно рестораны, пирушки, загородные поездки, курорты, танцы. Это, собственно, она называла жизнью. А труд, учеба, семья и прочие добродетели она считала только нудными обязанностями, которые надо, по возможности, избегать.
«Мне до всего этого, как до фонаря», — было ее излюбленным выражением.
Наташа Ростова была очень красива, — об этом говорили все с восхищением, завистью, злобой. Поэтому у нее почти не было подруг, зато уйма поклонников, в возрасте от семнадцати до пятидесяти. Но она была не только красива, но и умна, обаятельна, общительна. Она быстро поняла, что ее ждет тысяча разочарований, как и других девушек, равнодушных к социалистическим добродетелям. В это время она случайно познакомилась с одним американцем. Он был очень влюблен, но она отказалась выйти за него замуж. Американец был в отчаянии. И уезжая, взял с нее слово, что если она передумает, пусть даст ему знать. Он будет ждать ее пять лет. Время от времени туристы передавали ей письма от него. Он ждал, надеялся. Потом появился адвокат Шипов, интересный человек, романтик, тоже влюбленный по уши. Жил он вместе с сестрой-горбуньей в одной комнате, хотя зарабатывал пятьсот рублей в месяц. Но для Наташи это были гроши. Она не отталкивала его, но и особых надежд не подавала. Еще сама точно не знала…
Зоя Алексеевна правильно определила заболевание Наташи: ей противопоказан советский климат, надо его переменить на другой. Когда Зоя Алексеевна сказала об этом отцу Наташи, тот глубоко задумался. Да, надо уезжать, но как? Наташа к тому времени уже приняла решение — уехать, а там видно будет, выйдет она за этого американца или нет.
Так как туристы не появлялись больше в ее доме, она решила передать письмо через посольство, — ей, конечно, известно было, что по почте это письмо дальше полиции не пойдет.
И вот — письмо брошено во двор посольства. Приедет ли за ней Майкл? Но пока она в сумасшедшем доме.
Войдя в комнату, где собрались врачи, Наташа приветливо кивнула Зое Алексеевне.
— Ну, барышня, рассказывайте, что с вами, — сказал Андрей Ефимович.
— Если можно, я вам лучше спою.
— Пожалуйста, послушаем.
Наташа спела романс «У нас судьбы разные». Когда она окончила, Андрей Ефимович сказал:
— Хорошо, Наташа, но что нам делать с вашей судьбой, чтобы она не заводила вас так далеко?
— Одно — завезти меня дальше — за океан.
— И тогда все будет хорошо?
— Прекрасно.
— Так… Ну, ладно, идите, отдыхайте.
Когда она ушла, Нежевский обратился к лечащему врачу:
— Ваше мнение?
— Дело ясное… Девчонку распустил отец вопреки настояниям матери. Она и дурит. Неврастения в сильной степени. Чрезмерно эротична. Ее надо взять в шоры. И тогда она успокоится.
— Навсегда… — сказала Зоя Алексеевна.
— Как вас понять? — спросил ее Нежевский.
— Очень просто. Девчонка покончит с собой. Она мне это сама сказала. Я с ней очень дружна. Я считаю необходимым, чтобы спасти ее, отправить к жениху в Америку.
— Позвольте, у нее жених здесь, — сказала заведующая отделением.
— Кто вам сказал?
— Да он сам — адвокат Шипов.
— Ну, это — чтобы получить свидание. У нее есть такой вздыхатель. Я настаиваю на своем мнении. Она может и здесь что-нибудь натворить. Держать ее — преступление.
— Дорогая Зоя Алексеевна, — сказал Андрей Ефимович, — вы сегодня уже второй раз предлагаете невозможные решения. И… один в поле не воин.
— А вы?
— Я уже не воин… — и тяжело вздохнул, — видимо, пора мне уходить с поля.
Перед уходом Андрей Ефимович сказал ей:
— Зоя Алексеевна, а что если бы вы зашли в мою берлогу… не возражаете?
— Но ведь я теперь падший ангел.
— Все мы — падшие ангелы: и больные, и здоровые, и врачи…
8
Восстание падших ангелов
Если жутко присутствие среди великой массы слепцов считанных ясновидцев с печатью на устах, то еще ужаснее, по-моему, когда все всё уже знают, но обречены на молчание, и каждый видит правду в прячущихся или испуганно расширившихся глазах другого.
Томас МаннМы все чувствовали себя падшими ангелами на этой страшной земле, но никто не хотел мириться с такой участью и стремился вернуть любой ценой потерянный рай.
Естественно, что сейчас, на досуге, с особой остротой встал вопрос, что же собой представляет этот потерянный рай, о котором все мы имели смутное представление, особенно — молодежь?
Конечно, все прочли множество книг, настоящих, — и жалкие потуги советских школьных учителей, наёмных писак и агитаторов затмить неумолимую правду этих книг ни к чему не привели. В те дни ко мне обращались самые разнообразные люди. Падшие ангелы явно считали меня Люцифером, и я не имел нравственного права отказаться от этого почетного звания. Я должен был нести им свет правды. И я зажег свой фонарь и не гасил его ни днем, ни ночью, несмотря на все усилия полицейских. Впрочем, не следует преувеличивать их роль и значение, — не только я, но и все другие, даже мальчики, не считали их людьми, а чем-то вроде придорожных репейников. К ним относились с таким нескрываемым презрением, так подчеркнуто грубо, что мне даже порой неприятно было.